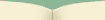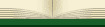Вечер второй
А я вот расскажу Вам, если не надоело, один случай на фронте, когда мы уходили из Румынии.
Была ночь, немцы стреляли сзади, и обойдя виноградники справа, обстреливали и оттуда уходящие частим.
Вы знаете, как растут виноградники в Румынии?
На расстоянии метра друг от друга, как по линейке, насаждения лоз.
Чтоб они вились, протянуты горизонтальные проволоки, изредка прикрепленные к столбам.
Получается род забора, вдоль которого мы и шли, куда выведет, потому что нельзя перейти с одной линейки на другую.
Таким образом, мы никак не могли удалиться от немцев и только пригибали головы, чтобы немцы не заметили нас в виноградниках.
Шли гуськом. Шедший сзади пропал без единого выкрика.
Мы хватились позже и решили, что он убит наповал.
Возвращаться было нельзя и бесполезно. Мы продолжали путь вдвоем, оба с винтовками без патронов, оба раненые.
Я хромал на одну ногу, где-то в затылке сочилась кровь. Линейки заворачивали влево, завернули и мы и, пройдя неизвестно много, выбрались, наконец, из виноградников и сразу повернули влево от самых глубоких частей немцев.
Мой товарищ, хромавший рядом, вдруг остановился, заинтересованный чем-то белым на траве у дороги.
Остановился и я, мы оба наклонились. Товарищ поднял белое, стал вертеть перед глазами.
Оказалось это нога, человеческая нога!…
Этот рассказ произвел сильное впечатление на моего друга. Пользуясь тем, что его сознание раскрыто для понимания истинно трагического, я приготовил в мыслях еще один короткий рассказ.
Мы сделали перерыв.
Мой друг, казалось, наблюдал, что делалось за окном.
Метель не стихала, перед большим фонарем у входа быстро струились снежные вихри. Ветки кустарника колебались. Женская фигура с поднятым воротником, с ребенком на руках, и с ней мужчина выдвинулись из мрака и вошли, с трудом распахнув тяжелую дверь.
Мы помолчали еще с минуту, и я начал второй рассказ.
"В это же время, пока я не добрался еще до санпоста, мы заметили в стороне группу солдат.
Это было возле тех же виноградников. Один из них, сняв сапог, перевязывал ногу, другой сидел и курил, а третий……
На третьего я смотрел недоуменно, силясь понять, чем он занят. Третий сидел на земле, перед ним валялись винтовка и фуражка, а сам он с невероятным сосредоточием, что-то творил обеими руками.
Я подошел ближе и, что же Вы думаете, солдат пальцами правой руки приставлял висевший большой палец левой, старательно его тер, как, знаете ли, надевают перчатку, потом медленно поднимал руку до уровня глаз.
Его лицо выражало надежду, что приставленный палец прирастет.
Когда палец отваливался, он снова приставлял его, снова усиленно тер, и снова палец отваливался, как только рука поднималась.
Все трое молчали, а куривший серьезно и сочувственно, следил за манипуляциями раненого.
Я понял и сказал: "Так вот что...".
Я улыбнулся, как сатана, и мы пошли дальше. На этом моем рассказе закончился второй вечер наших вечеров.
Вечер третий
Ах, мой друг, осенние дни так безнадежны, так навевают безысходность.
Рассказы человека, живопись передвижников не есть ли все это все то, что выросло под монотонными каплями долгих дождей?
Передо мной рисуются большие дороги, березы по бокам, стихи Есенина, запах сырости, овина, истоптанные сапогами сени изб.
Природа подчиняет себе человека. Громадные пространства делают равнодушными нас.
В светлых глазах северян как будто отражена печаль больших пространств.
Что может расцвести на них? Когда? Где яркость, с которой может соперничать искусство северян?
И вот наша живопись боится ярких красок, боится солнца.
Мы рассматриваем ее, как что-то особое, то, что вяжется только с тусклым светом и тусклым умом, лишенным остроумия.
Мы премируем безнадежность только потому, что лишены надежды.
Картины показывают нам серое, мокрое, мы даже во сне не видели энергичных очертаний, энергичного рисунка.
Мы лишь развлекаемся, и это похоже на кривую улыбку, когда нам показывают натуральное месиво из дождя и грязи.
Судьи принимают вещь, которая не пугает их, вещь, в которой все превращено в жвачку.
Я помню девушку. Она была татарка, и ее звали Хасанэ. Она подошла к мольберту, взяла уголь, нанесла рисунок и взялась за краски.
В движениях ее рук, ее тела была грация, и холст начал покрываться ритмично-гармоничными пятнами.
А Мамед Али, которому наскучило рисовать спичечные коробки в перспективе, подошел к группе товарищей и, указывая на крошки тусклых красок, сказал: "Как же Вы не видите, там тишина" - он поводил рукой над группой предметов: кавказская ваза, густо-красная ткань, маленький кувшинчик, темно-зеленые тона фона.
"Там тишина" - сказал он.
Поистине устами бывшего бандита говорило истинное чувство!
Но это не для большой дороги. На ней бредут калеки и просят милостыню.