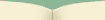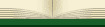| |
Сборник материалов по истории украинско-русского рода XVI-XX вв.
Все настроение дома для нас составлял отец, постоянно, хотя бы урывками, бывший при нас,
входя в наши ничтожные интересы, будь то игры, начало азбуки, мое рисование или катание на коньках,
наши болезни и все, что складывает детскую жизнь.

Нам не приходило в голову, какой ценой дано нам
благополучие и не иметь нужды. Но редкая гармония трезвого и деятельного ума нередко нарушалась у
моего отца пасмурностью, приходящей неизвестно откуда, почти непонятной нам, детям, и мы только
смутно угадывали ее происхождение. В конце концов, мы с Литой уже знали, что мы сироты, это слово
не произносилось в нашем доме, но мы его принесли с прогулки на бульваре, озадаченные его смыслом.
Мы молились по утрам и вечерам, В углу нашей комнаты висела икона божьей матери, в столовой - икона
Николая Чудотворца и образ Христа с терновым венком на голове. "Отче наш, иже еси на небеси, да
святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси, так и на земле.
Хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим".
В рождественские дни мы читали другую молитву, необычайно красивую, в которой все слова как бы
светились изнутри "Рождество твое, Христе, боже наш, воссия мирови свет разума…".
И, несмотря на то, что мы, бормоча молитвы, соединяли слова и произносили их, весьма своеобразно
осмысляя, прелесть их не терялась. Но в одно из воскресений, когда мы с Литой поливали цветы на
окнах, а папа, встав позже обычного, ходил по комнате без жилетки, было обнаружено, что строгая
икона Николая Чудотворца, ночью упала без всякой причины. Вскоре папа оделся и уехал из дома, но
я видел, что он побледнел.
И еще давно, если вскочишь ночью от какого-то дурного сна, или закричишь, потому что страшно, когда
на тебя непрерывно катятся извне туманные, крутящиеся шары, или вскочишь с закрытыми глазами, то
надо мной слишком опасливо и нежно склонялось встревоженное лицо сестры и на вид спокойное лицо отца.
Передо мной выступает милый облик дяди Феди. Он был младший брат моего отца, имевший с ним фамильное
сходство. Широкий нос, насмешливые глаза и полные губы. Он был подвижный и еще более неугомонный.
Появлялся он всегда только проездом, только на несколько дней и за эти дни успевал всех развеселить
и набаловать нас игрушками. Он был настоящий франт, но мужественный, и все в нем сочеталось как-то
особенно удачно. Я очень мало знал о его жизни, темные стороны были скрыты. Лицо дяди Феди часто
смеялось, располагало к себе добродушием. Улыбались светлокарие глаза, добродушно и звучно смеялись
полные и капризные губы, усики, с шиком закругленные вверх, и раздвоенный упрямый подбородок,
открытый лоб и мелкие рано седеющие кудри темных волос. Дядя Федя имел прекрасные, выпуклые
бицепсы, он был красив и силен. Его телеграммы вносили оживление и радовали нас необычайной
быстротой переездов: Петербург, Чита, Владивосток были попеременными местами жительства.
Мы никогда не знали, откуда он прилетит к нам. С папой у них были особенные отношения. Они были
очень ласковы друг к другу, по-дружески, по-братски. Я чувствовал, что они оба принадлежат к той
половине семьи, которая содержит в себе нечто благородное и великодушное. Оба они, молодые,
деятельные были суеверны до смешного: дядя Федя плевал через плечо, встретив священника и, кроме
того, знал множество других примет, наблюдений, уживавшихся бесконтрольно, по привычке, переданные
от предков.
На много лет мне по странной впечатлительности пришлось запомнить одну сцену раннего детства. Папа
и дядя Федя вернулись от хиромантки и за обедом кому-то из гостей рассказывали в шутливом тоне об
этом посещении. Однако по предсказаниям хиромантки папа должен был умереть спустя семь лет после
смерти моей мамы. Мы кончили обед. Все шло обычно. Я ни с кем не делился моим суеверным страхом.
Не думаю, что бы кто-нибудь помнил о том разговоре за столом и посещении хиромантки.
____________________
|
|
|
Леонид Николаевич Хорошкевич. Воспоминания о 1907-1920 гг.
1912 год
начался так же, как и все предыдущие.
В январе папа уехал за границу, и к нам опять полетели
желанные открытки из городов папиного маршрута: Берлин, Париж, Ницца, Тулон. Дальше предстоял
морем путь в Александрию.
Недели две мы не получали ни одного письма, мне приснилось: там, где наш сад кончался стеной,
увитой плющом по клетчатой драни, возвысилась гора. Верхушка ее покрыта лесом, а ниже лес редеет и
начинается кустарник. Утро ясное, и хорошо видно и слышно. Наверху, где-то, очень издали, зазвенел
колокольчик, и звук не оборвался, а продолжался явственно. Мы, трое, стоим внизу и ждем, и нам
страшно, хотя причины страха мы не знали. Звенел не колокольчик, а позванивала цепочка с крестом
на груди монаха. Монах в черной рясе и вязаной шапке спускался с горы и шел медленно вниз, а папа
стоит там, где начинается кустарник, но не уходит, когда надо уйти, и мы его зовем, а он чуть
склонился за кустом, как будто хочет спрятаться.
В феврале папа вернулся из поездки. Он побывал в Египте, Абиссинии, Турции, Греции, приехал смуглый,
как арап, мы встречали его на Киевском вокзале в мокрое мартовское утро. Папа привез подарки: нитки
янтаря, турецкие шали, атлас, парчу, египетские амулеты, разные вещицы с марками лондонских фирм,
кокосовые орехи, а мне красную турецкую феску, вышитую золотыми нитками и изнанкой голубого шелка
и черную морскую ленту с надписью. И сказал, что в следующую поездку возьмет с собой меня.

Но я тот
день был так грустен, сам не знаю почему, и не мог скрыть этого и своей досады, а через два дня
слег в постель и всю весну проболел скарлатиной, меня уложили в отдельную комнату, я лежал с
книгами, феской и черной морской лентой. В тот год зимние ночи проходили для меня особенно.
Я стерег папу и подолгу не засыпал. Я хотел предотвратить и слушал. На высоту третьего этажа
ясно доносились звуки, скрипела и хлопала с визгом тяжелая, из толстых досок садовая калитка,
страшно выл Верный, откормленный рыжий пес с глазами желтого цвета. Переулок был малолюден,
порядок охранялся строго, двор и сад были пусты, но и эти звуки действовали на меня в полной
тишине безотчетно тревожно. Можно было представить себе падающий снег, ложащийся на клумбы,
каштаны и тополь, ночного извозчика и фигуру городового на углу.
Мои страхи не помешали мне придумать месть Лите. Мы жили с ней в одной комнате, ссорились и часто
дрались.
Чтобы избежать драки, в которой Лита побеждала меня жалобами отцу, я придумал другое:
во время ужина я собрал крошки со стола и насыпал их под одеяло на свежую простыню и, когда Лита,
совершив свои молитвы, которые мне казались ханжеством и вообще роняли ее в моих глазах, тем более,
что Лита молилась не просто, а стояла очень долго в позе верблюда, опустившегося на передние ноги и,
кроме того, вымаливала настоящими слезами образок Спасителя (образок стал мягким от ее слез) и
самое главное делала все это на виду у меня, то после совершения молитв и [……], Лита должна
была долго проворочаться от вонзающихся в нее сухих крошек, как подобает мученице, да так и случилось, пока я смеялся в подушку.
Мой страх кончился с наступление 1913 года, подорвав мою веру в хиромантию. Папины дела шли очень
хорошо. Он был принят в лучших домах Москвы. Не лихач Елисеич теперь подъезжал к парадному крыльцу,
а угрюмый Симон увозил папу по утрам в блестящем чистеньком форде, и наш кривой переулок оглашался
веселым и мелодичным звуком рожков.
Одна загородная поездка отца едва не кончилась тяжелыми последствиями. Острый камень, брошенный с
большой силой, пробил туго накрахмаленный воротничок отца.
____________
|
|
|